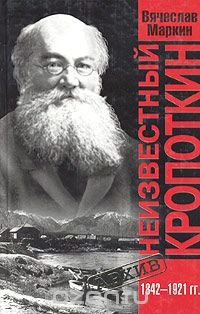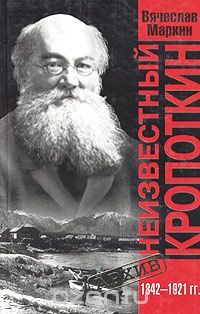— Ты будешь пить?
— Да, налей мне, пожалуйста, виски.
— Только немного.
— О чем ты?
— Тебе надо просто расслабиться.
— Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь кому-нибудь рассказал то, что я рассказала тебе.
— Хорошо.
— Ты обещаешь?
— Да, конечно.
— Тогда налей мне немного, совсем чуть-чуть, чтобы расслабиться.
— Ты только не бойся.
— А я не боюсь.
— Это не больно.
— Конечно, не больно.
— Мы встретимся… потом.
— Да… конечно.
За окном и в офисах, и на бензоколонках. Смеются в метро, перед телевизором, смеются в чате, в магазине, смеются надо всем, что пересажено, отрезано, что пришито, на экранах — серия убийств из мелкокалиберной винтовки, на центральной площади города — половой акт. Какая разница, кто, где, с кем и когда.
11
«…Так вот, выпало Пончику. Да уж, в последний момент я просто сжульничал, то есть я увидел, что Пончик выбрасывает десять, но я же не мог выбросить одиннадцать, потому что у меня, извините, всего две руки, и на каждой — всего по пять пальцев, и не ногой же мне еще выбрасывать. В тот момент, когда Пончик выбрасывал десять, я тоже типа хотел выбросить десять, но тогда получалось бы четное, а значит, в скафандр лосося должен был бы наряжаться я. А кто хочет наряжаться в одежду из склизкой рыбьей шкуры и входить в эту камеру? Да что я — дурак, что ли, недобитый, болван или скотина, банан, пидарас, газель, сука, неудачник по жизни, дебил я, что ли? Что я, не знаю, что и Пончик — хоть и брат он мне, да, младший брат — тоже хочет меня нажулить: что он типа выбрасывает девять, а сам на лету отгибает еще один палец — тоже мне, брат называется. Не хочет наряжаться, пока наш отец синий, на каменном ложе гниющий, да, ждет, когда войдет один из его сыновей в скафандре. Так вот, я заметил краем каким-то зрения своего — великого беспощадного зрения своего, данного мне в расселинах судьбы моей, извечного закона моего, заговора, издевательства — движение пули, да — и Ра-Хоор-Хайт взошел на трон свой на Востоке — и я уже выбрасывал девять: быстро, но… медленно, оставив мир, остановив звезды, время, как будто и не было никакой комнаты, как будто бы и не болело, как будто бы и совсем не было больно. никому не было больно. И на лету я разогнул.»
12
— Знаешь, мне все больше нравится эта игра.
— Ты уверена?
— А зачем мне обманывать?
— Ты права.
— Не говори так.
— Прости, я не хотел.
— Я знаю. Налей мне еще.
— Ты уверена?
— Да, я хочу.
— Хорошо.
— Почему ты так вздыхаешь?
— А ты, почему ты так смотришь на меня?
— Ник, мы, кажется, договаривались.
— Хорошо, хорошо, Анна. Прости меня.
— Когда-нибудь.
Москва, Дели, Нью-Йорк, Париж. Взмах крыла самолета, касание дирижерской палочки. Цветы в клумбе. Вы идете по бульвару. Это недорогой отель. Смешно увидеться в Сан-Франциско. Эта комната, как на картине Ван-Гога — синяя с желтым. В вестибюле — старый рояль. Ты так обрадовалась, что я прилетел, что чуть не врезалась на перекрестке в грузовик, когда мы ехали из аэропорта. Теперь все проще, и раздеваться проще. Только не надо ничего описывать. Когда хорошо, то просто хорошо. Это как эллипс — близко и далеко одновременно. Помнишь? Конечно. Да, ты права, тогда была просто поздняя осень без снега и грачи, как целлофановые пакеты, таял дым от автомобилей, пытаясь их догнать, а теперь все не так, мир изменился, как будто выпал, наконец, снег, хотя за окном плюс двадцать два, белый снег, и теперь все хорошо — да, очень-очень, и я боюсь, что лучше уже не станет…
— Анна, зачем пистолет?
— Ник.
— Анна, не надо.
— Теперь, когда ты так счастлив, Ник. Когда мы оба так счастливы.
— Анна!
Когда… это просто пистолетный выстрел… вспышка яркая, а щелчок звонкий…
— Прости, Ник. Я… я не могла в тебя не выстрелить.
Резкий и тонкий запах апельсина. Он обернулся. Вагон качало. Одна из сидящих высасывала апельсин. Ее губы растягивались: крупные, красные, они обволакивали оранжевое и снова сжимались, оставляя на кожуре мокрый, быстро высыхающий след. Она была увлечена, и ее колени в коротенькой юбочке непроизвольно раздвинулись. Он не мог отвести взгляд. «Почему у них там ничего нет?..» — была мучительная мысль. Трамвай остановился, и Он вышел.
— После алгебры — хорошо, да? — звонко, соблазнительно рассмеялись за спиной.
Он хотел выбрать другую дорогу, но выбрал эту. Тропинка шла мимо озера. Три разукрашенных автофургона с надписью «Мороженое» застыли на берегу. Шоферы курили. Сидя на корточках, они смотрели на купальщиков.
Он вспомнил каток, который был здесь в феврале, когда она так смешно скользила и падала. Она каталась с пакетиком воздушной кукурузы, Он зашнуровывал ей коньки. Тогда они кружили здесь вокруг странного сооружения из стекла — тысяча маленьких зеркал, словно осколки одного большого зеркала. Она не умела поворачивать и смешно, как цапля, переставляла ноги, а Он говорил ей: «Пригнись, согни их в коленях». Он смотрел на нее, и для него она была всего лишь девочкой с длинной косой и карими глазами, в белой кофточке и черном трико, она поджимала губки, как ребенок, да она и была для него ребенком, ведь Он был старше ее на несколько лет. Потом провожал ее домой, и та рассказывала, какая она дура; хотела казаться взрослой, поэтому пускалась в воспоминания, как напилась со школьной подругой и падала во все лужи, и ее поднимали незнакомые мужчины, и каждый хотел проводить.
Чумазый шофер пальцами выстрелил «бычок», другой, полуголый и мускулистый, уже равнодушно накачивал баллон. Три девочки топили мальчика, по очереди подныривая под него. «Ты держи, а я сорву!» — кричала одна. Они хищно окружали его, оттесняя на глубину.
Солнце садилось. Он вспомнил его блеск в иллюминаторе и то, как тень одного человека совместилась с тенью другого, когда самолет заходил на посадку.
Еще вчера — белый собор Сан-Мишель, красный подиум, два бронзовых пеликана и бронзовый змей, обвивающий подсвечник; распятие было рядом, но Он не мог себя заставить думать о Боге. Теперь Он стоял в своей комнате. Солнце село. Звонить ей не было смысла: все было кончено еще в марте. Никто никого никогда не вернет.
— Фудзи… — закрыл Он глаза и заплакал, как ребенок.
Мама называла ее так, когда она была еще совсем маленькой и сидела с куклами на диване. Ее мама рассказывала ему об этом.
«Фудзи, почему все так случилось? В твоей комнате зеленая лампа, а под ней иконка Богоматери всех скорбей. Бабушка входит и зовет тебя ужинать, и ты говоришь „сейчас“, а сама включаешь зеленую лампу, потому что солнце село, уже скрылось и трудно читать, наступили сумерки — время, когда и ты вспоминаешь, что могла бы быть счастливой…»
За окном забренчали на гитаре, запели. Он вздрогнул, открыл и вытер глаза. «Частная жизнь» — так называлась газета, которую Он купил в аэропорту, она лежала на столе. Там были эти телефоны — фирмы «Марина» и фирмы «Настя», фирмы «Ольга»… «Наши девушки самые лучшие в мире, они помогут вам забыть обо всем».
— Горько! Горько!.. — скандировали за окном.
Агент привез через два часа. Крепкий парень с тонким разрезом на шее, он долго подобострастно извинялся, выпрашивая еще десять долларов на такси («Сломалась наша машина», — объяснял агент), и Он согласился, опасаясь, как бы тот не увез девушку обратно. От парня пахло мазью Вишневского (шрам был свежий). А тот, к кому он сейчас приехал, с детства ненавидел этот запах: когда-то ему покрывали мазью Вишневского сильный ожог.
— Значит, поднимаем, — сладко, противно закивал парень.
«И чего такой?» — подумал Он.
Ее подняли в лифте — агент и еще двое молодцов. Маленькая, взгляд волчком.
«Не принцесса».
Ее провинциальная стрижка под мальчика, тонкая шея, тонкие обнаженные руки в коротких рукавах — ее хрупкость рядом с бычьей фигурой агента, пожалуй, внушала бы жалость, если бы не все тот же дерзкий, вызывающий взгляд.
Он расплатился — помятой стодолларовой бумажкой — и дал еще, по обещанию, десять.
— Один на один? — спросил агент, осторожно заглядывая в кухню и комнату. Парни стояли как каменные.
— Один на один, — подтвердил Он, как и по телефону.
— Мы вернемся ровно через два часа, — сказал на прощание агент, с неприязнью взглянув в глаза. — Будь уже готов.
— Мне хватит, — ответил, не отводя взгляда.
Он закрыл дверь, и они остались одни. Она стояла у зеркала, скорее всего, мысленно произнося «чи-и-из», чтобы губы непроизвольно раздвинулись в дружелюбной улыбке, но взгляд по-прежнему выдавал ее.
Она все же улыбнулась.
— Туфли снимать? — спросила с фальшивой послушностью.
— Да, — глухо ответил Он.
Она сняла и прошла быстро в комнату, сев сразу на диван. После улицы пол показался ей холодным, она поджала одну ногу к другой.
![Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113008/113008.jpg)